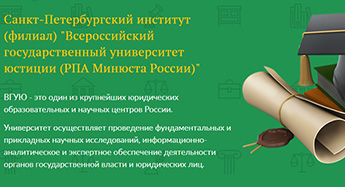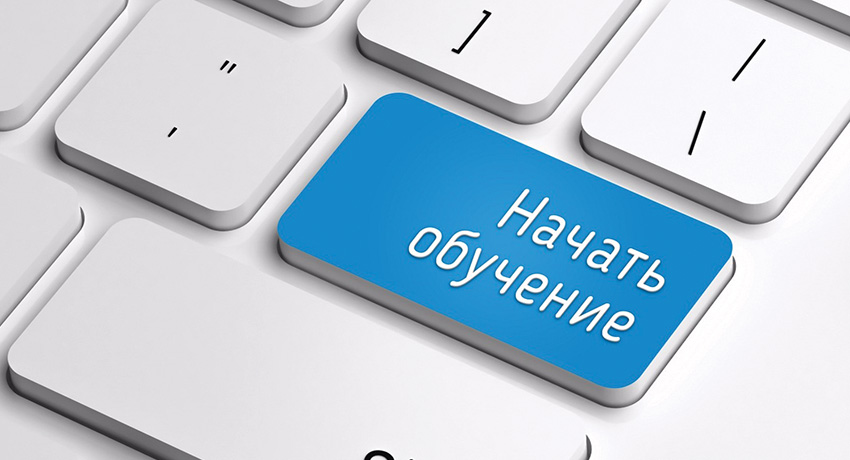Рецензия на монографию Рагулина А. В. «Организация деятельности адвоката-защитника: совершенствование регламентации и реализации профессиональных прав». — М.: Юрлитинформ, 2013.
№ 8 (75) 2014г.
Монография кандидата юридических наук, доцента А. В. Рагулина является логическим завершением его научных разработок и публикаций в ряде ведущих научных журналов, посвященных регламентации и реализации профессиональных прав адвоката-защитника.
Отправной точкой данного исследования является тезис автора о том, что «фундаментальной причиной неустойчивости или недолговечности того или иного правового явления является его несовместимость с общими закономерностями внутри социальной структуры».
Под социальной структурой мы понимаем определенный способ взаимосвязи элементов, то есть индивидов, занимающих определенные социальные позиции (статус) и выполняющих определенные социальные функции (роль) в соответствии с принятой в данной социальной системе совокупностью норм и ценностей.
Адвокатура, понимаемая как профессиональное объединение лиц, занимающихся адвокатской деятельностью, имеющее свою организацию, правовые основы и собственную компетенцию, является частью социальной структуры, а адвокаты наделяются определенными профессиональными правами, имеющими определенную дифференциацию в зависимости от выполняемой процессуальной функции.
Профессиональные права адвоката-защитника имеют двухуровневую систему организации: первый уровень профессиональных прав определяется ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», а второй — уголовно-процессуальным законодательством.
Несмотря на то, что двухуровневая система организации профессиональных прав адвоката-защитника впервые нашла свое легальное закрепление в Положениях об адвокатуре РСФСР 1962 г., в современной российской юридической науке не сформулировано понятие «профессиональные права адвоката-защитника». В этой связи автор определяет профессиональные права адвоката-защитника как комплексный правовой институт, сочетающий в себе полномочия адвоката и полномочия защитника, разграничивает процессуальные и профессиональные права адвоката-защитника и проводит классификацию профессиональных прав адвоката-защитника по трем основаниям: степени устойчивости принадлежности адвокату-защитнику профессиональных прав, зависимости реализации профессиональных прав адвоката-защитника от решений лиц, осуществляющих производство по делу, и по формально юридическому критерию. Представляется, что современный уровень развития юридической науки позволяет считать такую классификацию достаточно полной.
Автор формулирует систему профессиональных прав адвоката-защитника, состоящую из следующих элементов: профессиональные права адвоката-защитника, обусловленные гарантиями независимости; профессиональные права адвоката-защитника, обусловленные действиями, производимыми адвокатами; профессиональные права адвоката-защитника, принадлежащие ему на всех стадиях уголовного судопроизводства; профессиональные права адвоката-защитника на досудебных стадиях уголовного судопроизводства; общие права адвоката-защитника; права адвоката-защитника на стадии предварительно расследования; права адвоката-защитника как участника следственных действий; права адвоката-защитника при назначении и производстве экспертизы; права адвоката- защитника на ознакомление с материалами предварительного расследования; права адвоката-защитника при рассмотрении вопросов о мере пресечения; права при рассмотрении отдельных вопросов, связанных с переведением уголовного дела в категорию особого производства; профессиональные права адвоката-защитника на судебных стадиях уголовного производства; права адвоката-защитника при рассмотрении уголовного дела в судах первой, апелляционной, кассационной и надзорных инстанций; права адвоката-защитника при рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей.
Значительное внимание в своей работе автор уделяет анализу международно-правовых норм, а также законодательству зарубежных стран, регламентирующим содержание, обеспечение реализации и правовую охрану профессиональных прав адвоката-защитника.
Профессиональные права адвоката-защитника не могут находиться в статичном положении, они развиваются, совершенствуются, зачастую происходит незаконное и необоснованное вмешательство в реализацию профессиональных прав и, как следствие, воспрепятствование адвокатской деятельности. Для преодоления данных негативных факторов автор совершенно справедливо вносит предложение об установлении уголовной ответственности за вмешательство и воспрепятствование деятельности адвоката и приводит примеры зарубежных стран, где такая уголовная ответственность уже установлена, предлагая включить в УПК РФ ст. 294.1 «Незаконное воспрепятствование профессиональной деятельности адвоката либо незаконное вмешательство в эту деятельность».
Одной из форм воспрепятствования адвокатской деятельности является непредоставление адвокату законной информации. Автор обоснованно указывает, что если законодатель предоставляет участнику процесса какое-либо право, он должен внести в закон корреспондирующую санкцию.
Значительное внимание в монографии уделяется сопоставительному анализу норм УПК РФ и ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре»; автор приводит многочисленные примеры разного регулирования (прочтения) одних и тех же общественных отношений, закрепленных нормами УПК РФ и специального закона. Правоохранительные органы в случае обнаружившихся коллизий отдают предпочтение нормам УПК РФ. Непризнание за законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» равной силы с УПК РФ является частью более общей проблемы: проблемы нигилистического отношения к тезису о том, что адвокаты являются элементом системы правосудия. Хотя в монографии и отмечается, что «адвокаты способствуют осуществлению правосудия» и что «адвокаты являются такими же юристами, как следователи, дознаватели, прокуроры», тезис о том, что адвокат — это неотъемлемый элемент системы, не получает достаточной глубины. А как известно, этот тезис находит свое подтверждение в законах об адвокатуре и адвокатской деятельности отдельных стран Западной Европы: в Законе «О реформе некоторых судебных и юридических профессий» № 71-1130 от 31 декабря 1971 г. Франции: «адвокаты являются помощниками правосудия», в § 1 Закона «Об адвокатуре ФРГ» 1959 г.: «адвокатура является независимым органом правосудия», в статьях 1 и 38 Кодекса профессиональной этики адвокатов Греции от 4 января 1980 г. (Kodex Deontologias), где институт адвокатуры характеризуется как «орган правосудия». В п. 1 ст. 76 Устава Ордена адвокатов Португалии, Закона № 84 от 1984 г., озаглавленного «Об адвокате как слуге правосудия и права, его независимости и бескорыстии», говорится, что в своей профессиональной деятельности и вне её адвокат должен считать себя слугой правосудия и права. Данный способ квалификации института адвокатуры закреплен и в ст. 12 Основных принципов, касающихся роли юристов, а также в ст. 166 Договора о Европейском экономическом сообществе, легализующего статус генерального адвоката Суда ЕС «Court of Justice».
Весьма неожиданными являются приведенные автором данные социологических опросов адвокатов об их отношении к комиссиям по защите прав адвокатов. 70% опрошенных адвокатов негативно оценивают деятельность комиссий. Приведенные факты должны послужить толчком для реформирования организации работы этих комиссий и способа подбора их членов.
В работе содержится масса интересных предложений, которые призваны повысить эффективность деятельности адвоката: это и наделение адвоката правом заверять для клиентов копии, правом составлять частные протоколы осмотра местности, правом представить письменный отзыв по обвинительному заключению, правом производить осмотр места жительства подзащитного и другие очень важные предложения.
Давая оценку предложениям автора, направленным на внесение изменений и дополнений в законодательные акты, регламентирующие профессиональные права адвоката-защитника и их правовую охрану, следует сказать, что они направлены на совершенствование российского судопроизводства в соответствии с духом и буквой российского законодательства и международно-правовых норм.
Анализ научной новизны проведенного исследования показывает, что автором впервые на монографическом уровне:
- обосновано системное единство организации деятельности адвоката и института профессиональных прав адвоката и адвоката-защитника;
- выявлены основные исторически-обусловленные закономерности становления и развития института профессиональных прав адвоката-защитника в России;
- определено место института профессиональных прав адвоката-защитника в структуре правового статуса адвоката;
- сформулированы дефиниции ряда понятий, используемых в научном обороте;
- оценена роль гарантий независимости адвоката во взаимосвязи с институтом профессиональных прав адвоката-за- щитника;
- аргументирован подход к классификации профессиональных прав адвоката-защитника на основе различия свойств нормативных актов, в которых они закреплены, в сочетании с различными стадиями производства по уголовному делу;
- обоснована необходимость формирования эффективной юридической модели регламентации института профессиональных прав адвоката-защитника, что предполагает юридико- техническое совершенствование правовых норм, составляющих институт профессиональных прав адвоката-защитника, и введение действенных материально-правовых и процессуальноправовых санкций, применяемых к лицам, нарушающим профессиональные права адвоката-защитника;
- определены основные направления совершенствования организационных механизмов, обеспечивающих практическую реализацию и охрану профессиональных прав адвоката-за- щитника, главным образом заключающиеся в модернизации деятельности комиссий по защите профессиональных прав адвоката;
- дана характеристика основным тенденциям, существующим в правовом закреплении, обеспечении практической реализации и охраны профессиональных прав адвоката-защит- ника, обусловленным содержанием международно-правовых норм и закономерностями, выявленными в законодательстве зарубежных государств;
- сформулирован комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных предложений, направленных на совершенствование института профессиональных прав адвоката-защитника путем модернизации отечественного законодательства в сфере правовой регламентации, обеспечения реализации и охраны его статусных профессиональных прав.
Одновременно в работе имеются дискуссионные и спорные положения.
Спорным является тезис автора о том, что способ закрепления прав защитника в Псковской ссудной грамоте носил обычно-правовой характер, а в Новгородской приобрел, как пишет автор, свое нормативное закрепление.
Вряд ли следует согласиться с автором в том, что Инструкция «О революционном трибунале...» носила ненормативный характер. Само по себе название акта не указывает на его нормативность или не нормативность.
Есть неточности при рассмотрении вопроса о следственных и процессуальных действиях. Автор совершенно верно указывает, что УПК РФ предусматривает три разновидности процессуальных действий: следственные, судебные и иные. Таким образом, следственное действие должно относится к процессуальному как часть к целому, однако в работе это не всегда просматривается.
Иногда автор прибегает к использованию цитат и ссылок на ученых без их должного критического анализа, тратит драгоценное время на выяснение разницы между несущественными понятиями, имеющими одинаковую природу.
Характеризуя рецензируемую монографию в целом, необходимо отметить высокий уровень теоретического осмысления исследуемых проблем и практическую ориентацию представленных положений. Работа, выполненная на стыке теории и практики, будет интересна не только специалистам в области адвокатуры и процессуального права, научным сотрудникам, но и практикующим юристам.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что представленная на рецензирование монография А. В. Рагулина соответствует всем требованиям, предъявляемым к подобного рода работам, рекомендуется к изданию и использованию в учебном процессе высших учебных заведений и курсов повышения квалификации адвокатов, а также в практической деятельности.